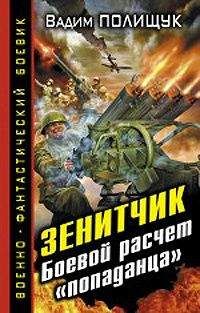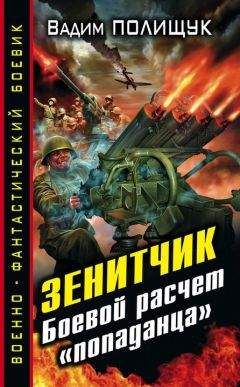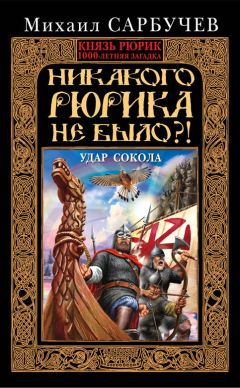Евгений Носов - Том 4. Травой не порастет… ; Защищая жизнь…
Я видел, как такие вот скучающие молодцы курочили заводскую зону отдыха: срывали пестрые полотняные тенты, гнули до земли металлические стояки зонтиков, сбрасывали в реку будки для переодевания и детские качалки. Когда я попытался образумить безумных, один из них дал мне такой совет: «Иди отсюда, дядя, а то и тебе буль-буль сделаем, понял?»
Вот они, уже готовые кадры боевиков! Кстати, не будем отрекаться. Это мы с вами, все вместе, всей нашей изувеченной и выхолощенной моралью наводнили страну подобными типами. По первому кличу и опять же от нечего делать, из одного только желания поразмяться, поднять шухер, они уже готовы что-либо перевернуть, разбить, опрокинуть, двинуть кого-нибудь в ухо, рубануть по черепу арматурным прутом или намотанной на руку цепью…
И особенно загораются азартом, когда прозвучит громкий разрушительный клич.
Это они примешиваются к народным фронтам, пользуясь их нестрогим, открытым членством, проникают во всякие людские скопления, на предвыборные и иные собрания, на митинги и манифестации, порожденные радостными для всех нас вольностями перестройки, но воспринимая их по-своему: в руках — звонкие, разноречивые, порой и правильные лозунги, а за пазухой — четвертинки с зажигательной смесью. Это они вконец дискредитировали «Память», вирусно поразив ее рыхлый организм и отравив первоначальные патриотические помыслы ядовитой инъекцией шовинизма. Это они же при первой уличной сумятице норовят ворваться в магазины, чтобы разжиться халтурными спиртным и куревом, а заодно побить витражи, прилавки и кассовые аппараты. Чем больше тарараму, тем веселее.
Из опыта демократических движений других народов мы уже знаем, что если кто-то захочет пошатнуть демократию, то прежде всего прибегает к насилию, к автоматным очередям из мчащегося автомобиля, к закладыванию взрывчатки в самых людных местах.
Делается это для того, чтобы запугать завоеванную свободу, разобщить народные силы, посеять вражду и рознь, превратить людей в бессловесную, безропотную толпу. А далее, как очень точно сказал поэт:
Толпа превращается в стаю,
И капает пена с клыков…
Толпа не имеет лица. В этом я убеждаюсь, вглядываясь на телевизионном экране в бушующие людские массы, которые все шире разливаются не только по другим союзным республикам страны, но и по городам и весям России, докатываясь и до моего родного Курска. Тут уже, как правило, не национальные и межнациональные страсти правят бал. Тут еще очевидней борьба за власть. Нет, далеко не всегда прямо декларируемая в столице и иных городах, чаще закамуфлированная, непонятная тысячам доверчивых людей, идущих на митинги и шествия под правильными вроде бы призывами в поддержку перестройки. Но стоит всмотреться и вдуматься повнимательнее, и мы поймем: здесь, как там, где уже полыхнул огонь, где пролилась кровь, здесь тоже есть свои стратеги и оперативники. Порой они выходят на трибуну — с подстрекательскими, провокационными речами. С далеко идущими и вовсе не благородными целями. А огню вспыхнуть и крови пролиться бывает недолго. И вдруг запахнет уже по всей стране той самой тяжкой гарью беды? Как говорится, избави и сохрани…
Будем же бдительны!
Будем дорожить выстраданной и обретенной свободой, в желанный облик которой многие вглядывались сквозь колючую проволоку сталинских лагерей или задраенные рамы брежневских психушек.
Не дадим превратить себя в толпу, направляемую кем-то с потайного пульта. Будем помнить, что толпа — это уже не народ, ибо народ всегда с человеческим лицом, толпа же — безлика и слепа, и агрессивна и немилосердна.
1990
Общие комментарии к отдельным произведениям
(Т. А. Соколова, Е. Д. Спасская, В. В. Васильев)
ТРАВОЙ НЕ ПОРАСТЕТ…
Повесть, рассказы
Практически все критики сходятся на том, что большинство произведений Б. И. Носова так или иначе тяготеет к войне. Или идет описание непосредственных событий войны («Синее перо Ватолина»), или передается восприятие селянами страшной вести о военном лихолетье («Усвятские шлемоносцы»), или рассказывается о том, как бойцы в госпитале узнают о Победе («Красное вино победы»), или же война показывается ретроспективно, ее страшные картины даются в воспоминаниях героев («Костер на ветру», «Яблочный Спас», «Памятная медаль» и др.). Главное во всех этих произведениях — святая правда о войне… Ни одним словом не погрешил автор против истины и предостерег от этого других: «Потише, робяты, с историей! Мы, ветераны, еще не ушли и помним, что к чему…» Ну а теперь, после его ухода, пусть будут эти слова заветом всем пишущим и говорящим о войне, о России!
Усвятские шлемоносцы, с. 7—159
Впервые опубл.: Наш современник. 1977. № 4—5. С. 104—112. Отдельной книгой повесть впервые вышла в изд-ве «Молодая гвардия» (М., 1980) с гравюрами художника Александра Зайцева.
Отвечая на анкету «Литературной России» «Кто над чем работает» (1974. 5 апр.), Е. Носов говорил: «Пишу повесть о войне. Уточнять трудно. Скажу только, что о войне написано много, и мне бы хотелось углубить эту тему, исследовать солдатскую психологию». В 1976 г., передавая «Литературной России» отрывок из повести, писатель отмечал, что произведение задумано как «литературная симфония, с обобщениями и философскими раздумьями» (Носов Е. Летели бомбовозы. Лит. Россия. 1976. 7 мая).
Наиболее обстоятельно об идейно-художественном содержании повести, ее жизненной основе, а также о первоначальном замысле «Усвятских шлемоносцев» Е. Носов рассказал в беседе с В. Помазневой (Касьян — и пахарь, и солдат // Лит. газета. 1977. 6 апр.):
«Повесть… даже не о войне как таковой, не о боях, не о баталиях, а лишь о том, как весть о ней пришла в глубинное русское село и как люди привыкали к мысли, что нужно оставить свои пашни, сенокос, поле, своих близких и идти на защиту родной земли.
От момента, когда человек должен был оставить плуг, до момента, когда необходимость заставила его взяться за винтовку,— большая дистанция. Дистанция тут психологического характера, связанная с мучительной ломкой устоявшихся представлений, привычек, вживанием в навалившуюся беду, перевоплощением пахаря в солдата. Вот о сложном состоянии перевоплощения, о десяти днях начала войны и написана повесть. Предчувствую, что название ее — „Усвятские шлемоносцы“ — у читателей поначалу может вызвать определенный внутренний протест. Но выбрано оно не случайно. Вдумайтесь: ведь и слово „война“ сразу как-то не воспринимается, потому что чуждо человеку. Его тоже надо осознать, к нему тоже надо привыкать, как к ношению шлема, каски.
‹…› Повесть весьма проста по сюжету. И никаких особых событий в ней не происходит — просто уходят из села новобранцы. Очень объективная хроника, очень медленное развитие событий.
Сначала замышлялась она как раз с баталиями, с подвигами. Собственно, все начало, которое сейчас существует, именно потому торопливое, беглое, что я мыслил побыстрее пройти сцены прощания, проводов, а потом уже широко, объемно представить картины фронтовой жизни. Но материал, по которому писались первые сцены, увлек меня. К тому же оказалось, что в нашей литературе он еще недостаточно разработан. Будучи сам по себе не военным материалом — здесь только сборы на фронт,— он, мне кажется, тем не менее очень емко выражал героическую суть нашего народа.
‹…› Главный герой повести — народ. А олицетворяют его в данном случае жители села Усвяты. Имеется в повести и главное действующее лицо — крестьянин Касьян Тимофеевич… Я взял человека средних лет, чтобы показать, ч т о он теряет в связи с войной…
‹…› Главное в ней не сам герой… а идея защиты Родины. Этой идее подчинено все.
‹…› У моего героя фамилии вообще нет, потому что она была не нужна. Но имя я ему дал не случайное: Касьян означает „носящий шлем“.
‹…› В облике „Усвят“ проглядывает… в общих чертах моя деревня. И хоть писал я не свою хату, не своего дядьку, не своего деда, не соседа, но всегда имел в виду мое село, его людей.
‹…› Самой своей повестью я хочу сказать: посмотрите, какой мирный наш народ! Он никому не может угрожать. Конечно, если его побеспокоят, он постоит за себя».
Повесть была воспринята как новое слово в осмыслении темы патриотизма и подвига (Комсомольская правда. 1977. 8 июня). Отмечалась глубокая народность произведения, его связь с предыдущим творчеством писателя, с традициями былинного эпоса и русской воинской повести (Подзорова Н. И остаются сыновья // Лит. газета. 1977. 8 июня).
Повесть не раз инсценировалась. Спектакль Вологодского областного драматического театра удостоен Государственной премии СССР. Труппа Куйбышевского (ныне Самарского) академического театра драмы им. Максима Горького с успехом показала спектакль «Усвятские шлемоносцы» в столице. В конце этого спектакля зрители провожали шлемоносцев, уходящих со сцены, стоя… Шел спектакль и в Центральном академическом театре Советской Армии, в Москве. Одну из лучших постановок «Усвятских шлемоносцев» осуществил Курский драматический театр им. А. С. Пушкина (режиссер В. Гришко). Режиссер А. Сиренко поставил по повести кинофильм «Родник» (Мосфильм, 1982), в 1982 г. на 3-м фестивале молодых кинематографистов Москвы он получил награду за лучшую режиссерскую работу и лучший сценарий, а год спустя — премию Ленинского комсомола.